
В уголках памяти
Представь себе, увидеть бескрайние просторы, раскинувшиеся под чистым голубым небом, густые леса, сливающиеся с горизонтом, и лютый холод, испытывающий человеческую волю. Это Сибирь. И здесь, в ее сердце, живет малоизвестный многим мусульманский народ. Его вера прошла испытания, но выстояла. Его пытались сломить, но он гордо ответил «нет». Лишения закалили его, огонь испытаний лишь выявил благородство его духа. Это сибирские татары. Гордый народ, прошедший свой уникальный исторический путь, сохранивший свою идентичность вопреки свирепым бурям насильственного выкорчевывания.
В Сибири
Ледяной воздух хлестал меня по лицу, как плети. Снег хрустел под ногами сухим звуком. Дорога терялась позади в бесконечном тумане. Мой друг не заглушал двигатель машины. Увидев мое удивление, он просто сказал: «Здесь все иначе… Если я заглушу двигатель сейчас, все внутри замерзнет, и не заведется снова до весны… Это Сибирь!». В самом сердце Сибири начинается наша история с великим народом, который сопротивлялся лютому холоду, восставал против забвения и хранил в своем сердце тепло веры.
С татарами
Мой интерес к ним зародился в восьмидесятых годах, когда мне в руки попали книги, мимоходом упоминавшие о них. Я думал, что они всего лишь продолжение казанских татар или татар Поволжья, о которых я уже писал ранее. Я придерживался этого мнения до 1992 года, когда встретил одного из лучших их сынов — шейха Нафигуллу хазрата, муфтия Сибири и азиатской части России. Эта встреча стала поворотной точкой. Я встретил его в Уфе, столице Башкирии, где шейх тогда был заместителем председателя Центрального духовного управления мусульман. От него я услышал многое о регионе, его истории. Шейх Нафигулла — ходячая энциклопедия в этой области, он сыграл огромную роль в ознакомлении мира с положением мусульман Сибири и других регионов. Впервые я прочитал о них во французской книге о мусульманах Советского Союза, где упоминались город Томск и его Красная и Белая мечети, и то, что с ними случилось после изъятия у мусульман. В конце восьмидесятых алжирские братья передали нам книги шейха Мухаммада аль-Газали, среди которых была «Ислам перед лицом красного нашествия». В ней упоминалось Сибирское ханство и его стойкость, цитировались слова, приписываемые последнему хану Кучуму. Эти слова, как искра, разожгли мое любопытство: кто этот хан? Какое это ханство, что противостояло царям на дальнем севере? Я тогда не знал, что в той далекой холодной Сибири существовало Татарское ханство, и что имя хана Кучума будет веками жить в памяти его народа и после его ухода.
Абдурашид Ибрагимов
В начале девяностых я встретил известного мусульманского деятеля Салиха ас-Самираи. Он с явным воодушевлением рассказывал о выдающемся сибирском татарине — шейхе Абдурашиде Ибрагимове — и подарил мне часть перевода мемуаров этого незаурядного человека. Шейх был из города Тара (ныне в Омской области), учеником аль-Афгани, путешественником, объездившим мир во имя защиты своей уммы. Он основал первую мечеть и исламское медресе в Токио, распространял ислам в Японии и пользовался большим уважением у ее правителей. Эти мемуары были не просто историческим текстом, а окном в почти исчезнувший мир. Меня покорила личность шейха: его неутомимая энергия, самоотверженность в служении своему делу, его стойкость перед лицом репрессий. Меня поразила его проницательность: он рано проанализировал признаки краха империи Романовых и увидел в победе Японии (1905) проблеск надежды на освобождение своей страны от тирании. Эта идея подтолкнула революционеров России к восстанию 1905 года, что подготовило почву для революции 1917 года (как писал В. И. Ленин). Он эмигрировал в Токио не в погоне за комфортом и сытой жизнью, а с целью, как он задумал, построить исламско-японский альянс против деспотизма. Чтение этих страниц оставило во мне неизгладимый след. Я преклонился перед ученым, равного которому мало. Он озарил тьму отчаяния неугасимым светильником, раздул пепел прошедших лет, чтобы зажечь искру надежды, повторяя до последнего вздоха: «Моя умма… Моя умма!».
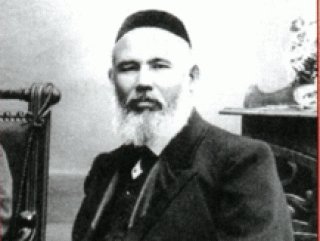
Комсомольские стройотряды
Когда мы приехали на учебу в восьмидесятых годах, университет во время летних каникул предлагал желающим поработать в Сибири в комсомольских стройотрядах… У них были стройотряды по всей Сибири (и они сыграли заметную роль в строительстве стратегической Байкало-Амурской магистрали «БАМ»). Это была редкая возможность для студентов заработать хорошие деньги во время каникул… Но только один из моих знакомых отважился на эту авантюру — друг из Судана, тогда изучавший журналистику, — движимый любопытством и жаждой приключений. Вернувшись, он рассказал мне с ноткой иронии в голосе: «Это было незабываемое, прекрасное приключение… Но я никогда не повторю его, что бы ни случилось!». Причина была очевидна: тяжелый ежедневный труд, навязанный им «бригадирами», изнуряющая усталость, не говоря уже о тучах комаров, безжалостно осаждавших их… И это, в конце концов, тоже Сибирь!
Новые студенческие города в Сибири
В девяностые годы, когда Советский Союз шатался под тяжестью распада, а могучие столпы его институтов рушились, центральные власти, казалось, внезапно осознали тревожную истину: большинство учебных заведений, принимавших иностранных студентов, находились за пределами России, в республиках, которые вот-вот перестанут им подчиняться. А сами российские города до того момента были словно закрытые крепости для чужаков. Власти, будто очнувшись от долгой спячки, поспешили распахнуть двери этих городов перед новыми студентами. И мы стали слышать о новых студенческих городах: Казань, Нижний Новгород, Саратов и другие. Но одно из направлений стало громом среди ясного неба: первую группу студентов отправили в самую глубь Сибири, конкретно в Иркутск — тот далекий город, что гордо стоит на берегах озера Байкал, как сверкающая жемчужина в суровой среде. Это было совершенно необычно; нога иностранного студента еще не ступала в ту далекую стужу, до которой можно добраться только почти за четверо суток непрерывного пути на скором поезде, где нет ничего, кроме бескрайних степей и лесов, шепчущих свои загадки. Это была группа молодежи из Хеврона (Аль-Халиль). Они привезли с собой дух Палестины. Они думали — как и я, когда впервые услышал эту новость — что название перепутали и имеется в виду Курск, где знакомые лица могли бы их принять. Но реальность была горькой: их действительно отправили на край света, будто испытывая их выносливость с первой же минуты. Помню, как быстро закончилось то приключение, как тяжелый сон, развеянный ветром: позже их перевели в менее холодные города Центральной России. Такими были начала в эпоху распада: неуверенные шаги, поспешные решения, судьбы, вычерчиваемые в строках хаоса, как листья, разлетающиеся в буре истории, исход которой еще не решен.
Начало пути
В начале девяностых, когда в Советском Союзе ослабли ограничения, я полетел в Омск вместе с другом с Кавказа, чтобы встретиться с молодежью из Омска, казахского происхождения, зарегистрировавшей культурный центр и стремившейся изучать арабский язык и основы религии. Уже само это было событием… Это была моя первая поездка в Сибирь. Было лето, когда дни длинные. Хотя летом в Москве дни тоже длинные, в Омске день казался бесконечным. Позже были поездки в Тюмень, где находилась столица того ханства, о котором упоминал шейх аль-Газали, в Иркутск и в Новый Уренгой, жители которого говорят, что их город не в Сибири, а на Крайнем Севере!
На краю льда. Татарские деревни

Недалеко от города Тобольск есть несколько татарских деревень, известных как «Заболотье». Их окружают леса и топи, что делает невозможным добраться до них летом. Дороги открываются только лютой зимой, когда вода замерзает, и можно проехать на машинах по льду. В том районе мы познакомились с Лайтамаком, самой большой деревней в округе в девяностые годы. В ней была мечеть, которую восстанавливали из руин истории татарские женщины. За мечетью и деревней, как и за каждым уголком Сибири, стоит история, которую нужно рассказать.
Лайтамак… который не склонился
На краю света, за лесами сосен, покрытых инеем, в объятиях степей, простирающихся до горизонта, дремлет маленькая деревня по имени Лайтамак. Деревянные дома разбросаны, как теплые призраки в море снега. На картах ее видно лишь как тихую точку, но в сердцах ее жителей — это целый мир преданий и веры. Я почувствовал незримую нить между нами, будто ее история зовет… Я узнал незабываемые истории стойкости, веры и тихого сопротивления. Летом дома плавают среди водных луж, как безмятежные острова. Зимой проходы замерзают, вода превращается в белые твердые дороги, по которым ездят машины. Здесь живут сибирские татары-мусульмане. Их будит азан, их согревает тоска по земным поклонам их предков. Их предки нашли прибежище в этом дальнем уголке столетия назад, спасаясь от свирепой волны насильственного крещения. Они нашли во льду крепость, а в изоляции — свободу. Среди них был ученый из Бухары по имени шейх Бахтияр. Своими знаниями и верой он стал непреодолимой преградой, защищавшей жителей деревни от яростных кампаний крещения. Одним из наследников его знаний был последний имам деревни в тяжелые тридцатые годы — шахид Ханафи Барсиков.
Человек с волей свободных и стойкостью ученых, с сибирским лицом, озаренным решимостью. Он завершил свой жизненный путь шахадой в то мрачное время, и деревянная мечеть закрылась. Но история не закончилась. Спустя долгие десятилетия, после снятия ограничений в Советском Союзе, поднялась его внучка Шарифа Апа. В ее сердце горел факел веры. Она подняла знамя разрушенной мечети, вернула имя своего деда-шахида, память о котором жила в молитвах на каждом «маджлисе». В свои семьдесят лет она решила вернуть мечеть. Она оставила уют своего города, покой на пенсии и пришла, неся свою любовь. Сначала она шла одна. Дрожащими от холода и лет руками она стояла, соревнуясь со снегом и дождем. Каждый день она наблюдала за строительством с энергией и рвением двадцатилетней, а ветер играл ее белой шерстяной шалью. Она следила, как по ледяным дорогам доставляют бревна стройматериалы. Ее глаза сияли, как у того, кто пишет священную строку в книге жизни. Она говорила: «Помните, что вера может прорасти в самых трудных местах, а тепло сердец топит лед». А когда тело уставало, она передала свою миссию двум другим бабушкам — Салихе апа и Насибе апа, каждой из которых было за семьдесят, но сердца их были в вечной весне. Они продолжили путь, завершили работу, стучались в двери… Пока мечеть не встала вновь, ее минарет пронзил ледяное небо, а ее ковры благоухали мускусом такбира «Аллаху Акбар». Лайтамак был не просто деревней. Он стал обещание, что эта религия не умрет, и корни ее крепки, пока есть те, кто поливает их любовью и верой. Мечети строятся не камнями и бревнами, а терпением, любвью и верностью.
Уникальный азан
В 1992 году один алжирский брат поехал в один из отдаленных поселков. Его должен был встретить на вокзале местный житель и сопроводить. Но по какой-то причине они не встретились. Брат не захотел упустить возможность и, уповая на Аллаха, все равно поехал. Приехав в поселок, где он никого не знал (а телефонов тогда не было, как сейчас), его осенила мысль: прочитать азан возле центрального рынка. Его азан услышали кавказские торговцы и подошли к нему. Так началось его путешествие давата: он раздавал книги, налаживал связи, знакомился с людьми. Это был незабываемый опыт. Из этих путешествий с книгами, из поездок и встреч сложился образ гордого народа. Народа, который встретил культурное растворение стойкостью и упорством, укрывшись верой, сохраняя память. Народа, превращавшего дома в мечети, жилища — в школы, густые леса — в крепости для поклонения и обучения, а любое собрание «маджлис» — в поминание Всевышнего.
Это было лишь началом истории. Кто же такие сибирские татары? Какова их роль в истории? Чтобы понять это, нужно вернуться назад, во времена великих ханов, и особенно — хана Кучума… Чтобы узнать, кто этот хан, чье имя громко звучит на страницах истории, как он правил на этой далекой землей и сделал ее крепостью, измотавшей царскую гордыню.
Али Абу Исам
Наблюдения араба — 3, статья — 1
Информационное агенство IslamNews.Ru
Войти с помощью: